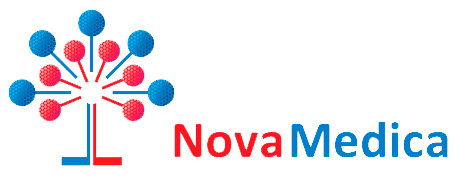«Лучшего механизма финансирования разработки инновационных продуктов, чем венчурный капитал, пока не придумано»
Print
14 Августа 2013
Елена Калиновская, Фармацевтический вестник
В 2003 г. он одним из первых начал рассказывать российским предпринимателям и чиновникам об инновациях в области фармацевтики. В последние два года все чаще бывает в России. Когда имеет в виду Россию, то говорит «в нашей стране», однако вот уже более 10 лет живет в Америке. Основатель и генеральный партнер венчурной компании Helix Ventures из Силиконовой долины Евгений ЗАЙЦЕВ рассказал корреспонденту «ФВ» Елене Калиновской о тонкостях венчурного инвестирования.
 — Инновации в фармацевтике начинаются с открытия новой молекулы. По поводу России есть два противоположных мнения. Одни говорят, у нас практически нет инновационных разработок, другие утверждают, что зарубежные компании ведут целенаправленный мониторинг публикаций российских ученых. Кто прав?
— Инновации в фармацевтике начинаются с открытия новой молекулы. По поводу России есть два противоположных мнения. Одни говорят, у нас практически нет инновационных разработок, другие утверждают, что зарубежные компании ведут целенаправленный мониторинг публикаций российских ученых. Кто прав?
— В России, конечно, есть разработки. Однако их объем очень мал, чтобы обеспечить инновационный процесс. Дело совсем не в качестве отечественной науки — оно достаточно высокое. Наши ученые говорят с зарубежными коллегами на одном языке, они публикуются в тех же международных научных журналах. Проблема в экономике процесса: исследования в этой области высокозатратны. Один лишь Национальный институт здоровья США (NIH) в год выделяет 26—27 миллиардов долларов на гранты, поддерживающие прикладные исследования в биологии и биофармацевтике. Это дополняется существенными вливаниями государственных программ, таких как BARDA, SBIR, а также частных фондов. В результате формируется значительный объем новых знаний, питающий собой инновационную биомедицинскую отрасль.
Фармацевтические компании, да и инвесторы, действительно занимаются мониторингом новых публикаций. Однако российское (равно как и любое другое) происхождение их авторов не имеет никакого значения: гораздо важнее сами разработчики, научная новизна и коммерческий потенциал этих разработок.
— То есть проблема в количестве разработок?
— Конечно. Из сотни новых молекул до финиша могут добраться лишь две или три. Процесс разработки нового лекарства долгий и дорогой. Ученым сначала необходимо открыть специфичную для болезни мишень, то есть найти новый механизм действия. Затем к этой мишени подбираются потенциальные аналоги будущего лекарства. Эти аналоги тщательно характеризуются, проходят через процедуру скрининга, оптимизации и обширную программу доклинических исследований, которые позволяют уже регулирующим органам допустить новый терапевтический продукт к испытаниям на человеке. Поскольку наука в последние десятилетия сделала гигантский шаг в понимании молекулярных механизмов многих болезней, исследования сегодня ведутся на молекулярном и субмолекулярном уровне — это очень тонкая и дорогая наука. Учитывая низкую вероятность успешного прохождения новой молекулы через все этапы доклинических и клинических исследований, объем научных исследований, генерирующих новые знания в этой области, приобретает критическое значение. Поэтому массивные программы финансирования разработок в США и Европе генерируют значительную инновационную активность в отрасли.
— Тем не менее известны ли вам случаи выхода на международную арену именно российской молекулы?
— У молекулы не может быть национальности, равно как и сама наука — это в сегодняшнем мире глобальное явление. Если же говорить о россиянах, то мне известны случаи, когда ученые из России, работая в США, открыли новые молекулы. Например, известный многим Андрей Гудков из Roswell Park Cancer Institute, основатель компании Cleveland Biolabs, является автором разработок многих лекарств. Или выпускница МГУ Валерия Оссовская играла ключевую роль в разработке ведущей терапевтической молекулы моей портфельной компании BiPar Sciences, которая была продана Sanofi—Aventis за 500 миллионов долларов.
Из лекарств, созданных именно в России, мне известен только Димебон, который разрабатывался компанией Medivation для лечения болезни Альцгеймера. Хороший препарат, но он не прошел третью фазу клинических испытаний — к сожалению, в нашей отрасли это случается довольно часто.
Это, кстати, хороший пример глобальности инноваций в биофармацевтической отрасли: сегодня новые лекарства могут быть открыты учеными одной страны, разработаны при участии исследователей разных стран при поддержке инвесторов из разных государств. А потребители любого биомедицинского продукта — это население планеты Земля.
— А каким образом Россия вовлечена в эти процессы?
— На самом деле, вопреки сложившемуся мнению, она вовлечена довольно плотно: в России присутствуют офисы практически всех глобальных CRO (организации контрактных исследований), многие большие и малые биофармацевтические компании ведут здесь свои исследования. Это очень важная, но далеко не единственная составная часть цепочки создания добавочной стоимости в биотехе. Сегодняшний биофармацевтический бизнес вертикально интегрирован: в процессе создания нового лекарства принимают участие иногда несколько десятков компаний-соисполнителей, которые предоставляют инноваторам высокоспециализированные исследовательские сервисы на высочайшем методическом уровне. Чем больше подобных сервисов окажется на российской земле, тем большая часть добавочной стоимости будет создана именно в России. А это означает — накопление компетенций, получение доступа к технологиям, создание высококвалифицированных рабочих мест.
Это во многом вопрос инновационной инфраструктуры, которая необходима для коммерциализации новой молекулы. Начинается все с ранней стадии: доклинических исследований, необходимых для валидизации нового лекарства. Это исследования токсикологии, фармакологии, эффективности и прочего. Для этого существуют независимые GLP-сертифицированные лаборатории, которые проходят периодический аудит международных регуляторов. Такой индустрии в России сегодня, несмотря на огромный потенциал, практически нет. Проведение клинических испытаний тоже требует определенной инфраструктуры. Так, логистика любого международного клинического исследования требует привлечения центральной лаборатории, ближайшая из которых пока находится в Европе. Поскольку сервисные компании не всегда являются привлекательным объектом инвестиций, государственные институты развития могли бы сыграть ключевую роль в запуске этой отрасли.
— Минпромторг проводит аукционы на доклинические исследования, что вы думаете об этом?
— Минпромторг в рамках программы «Фарма 2020» финансирует доклинические программы разработки препаратов или трансфер зарубежных технологий в Российскую Федерацию. Это очень важные программы, поскольку они как раз направлены на создание добавочной стоимости на территории России и доступа российских пациентов к инновационным препаратам. Однако международных доклинических программ могло бы быть гораздо больше, если бы существовала развитая GLP-отрасль — она пока в эмбриональном состоянии.
— Но клинические исследования не являются белым пятном в российской инновационной инфраструктуре?
— С точки зрения клинических программ у российских клинических центров действительно много конкурентных преимуществ. Во-первых, здесь высокая концентрация пациентов, особенно высокоспециализированных. Во-вторых, российских участников клинических программ отличает высокая дисциплина: их не нужно разыскивать по всей стране и собирать на дополнительные осмотры. Они зачастую мотивированы тем, что, участвуя в клинических исследованиях, получают возможность получить высококачественное лечение. В-третьих, регуляторные требования в США неоправданно жесткие. В последнее время многие инновационные компании все чаще приходят к мнению, что избыточные требования, предъявляемые американским FDA, вынуждают инновационные компании вести разработки в других странах. Конечно, у регулятора США благие намерения — он защищает права пациентов. Но, с другой стороны, зарегулированность вытесняет инновации с американского рынка.
— А в Россию инновационные препараты текут рекой?
— Если и не рекой, то очень уверенным потоком. Фармацевтические компании и в прошлом пользовались нашей клинической инфраструктурой, но в конечном итоге продукт так и не появлялся в России, а запускался лишь на крупных рынках. Это происходило потому, что российский рынок до последнего времени был очень умеренно интересен международным компаниям. Сейчас ситуация совсем иная: отечественный рынок один из самых быстрорастущих (15—17% в год), а федеральные программы делают запуск новых продуктов в стране привлекательным для бизнеса.
— Как эти программы позволяют расширить наше участие на международном инновационном рынке?
— Эти программы позволяют получить дополнительное финансирование (они не отменяют необходимости привлечения профессиональных инвестиций) для проведения доклинических и клинических исследований и запуска нового продукта на российском рынке. Например, наша портфельная компания InteKrin Threapeutics в лице своей дочерней компании ЗАО «ИнтеКрин» выиграла аукцион Минпромторга на трансфер технологии и создание нового лекарственного препарата для лечения рассеянного склероза. Российская компания обладает всеми правами на отечественном рынке, и ее целью является регистрация нового продукта. Одновременно все доклинические и клинические программы, которые проводятся по всем международным стандартам, генерируют данные, которые могут быть использованы не только в российском регуляторном процессе, но и в глобальном. То есть выигрывают все: российские пациенты, государство в лице Минпромторга, акционеры отечественной и американской компании.
— Еще пара вопросов непосредственно о венчурном бизнесе. Как вы отбираете потенциально интересные разработки? Здесь больше личных связей, опыта, есть какие-то поисковые программы?
— Если у венчурной компании сложившаяся репутация на рынке, предприниматели приходят сами. Например, в год у нас бывает до тысячи презентаций. Однако самые успешные сделки были найдены активно: у нас хорошие взаимоотношения со Стэнфордским университетом, его лабораториями, программами трансфера технологий, Университетом Калифорнии в Сан-Франциско, Беркли, Сан-Диего и многими-многими другими. Венчурное капиталовложение — это вообще бизнес отношений, и личные связи играют первостепенную роль.
— А как выстраиваются отношения с разработчиком молекулы?
— Есть два варианта. Либо разработчик лишь участвует в передаче лицензии, и его экономический интерес основан на роялти, либо он сам основывает компанию и вносит свою интеллектуальную стоимость в качестве капитала компании. После привлечения инвестиции он, соответственно, делится долей этой компании с инвестором. По мере роста компании ее основатель делится не только своей долей в бизнесе, но и полномочиями — быстрорастущий бизнес требует создания полноценной управляющей команды. В результате у него остается небольшой кусок изначального «пирога», но это уже очень большой «пирог», ведь стоимость компании в результате инвестиций и усилий по разработке продукта растет.
— Я читала, что в один из проектов ваша фирма вложила 60 миллионов долларов, а в итоге продали проект за 500 миллионов долларов. Однако есть разработки, которые «не выстрелили». Так ли рентабелен венчурный бизнес? И каков процент «бракованных» молекул?
— Действительно, в компанию BiPar Sciences синдикат инвесторов вложил около 60 миллионов долларов (из которых было потрачено 50 миллионов), а продана она была Sanofi—Aventis за сумму до 500 миллионов долларов. Венчурные инвестиции, однако, рискованный бизнес, и риск существенно зависит от стадии инвестирования. Так, по статистике фармотрасли, лишь около 10,7% молекул в первой фазе клинических испытаний оказываются успешными. Но венчурные капиталисты никогда не полагаются на эту статистику: ведь наша задача не инвестировать случайным образом в 10 компаний и надеяться, что чуть больше одной из них «выстрелит». Мы стремимся минимизировать эти риски как на этапе отбора, так и на этапе роста компании: активно участвуем в советах директоров, помогаем найти талантливых менеджеров, выстроить корпоративные партнерства. И поверьте, это очень интересный бизнес.
Следует отметить, что венчурный капитал — важнейшая составляющая инновационной экосистемы в биомедицинских технологиях. Лучшего механизма финансирования инновационных продуктов пока не придумано. В России рынок венчурного капитала в биотехе пока очень ограничен: на сегодняшний день существует три биомедицинских фонда в портфеле РВК («Биопроцесс», «Максвелл», «Биофонд») и инвестиционная компания «РоснаноМедИнвест», партнером которой является один из ведущих глобальных фондов Domain Associates. Появление глобальных игроков на российском рынке — чрезвычайно положительное явление, однако количество венчурных фондов должно быть в десяток раз больше, чтобы адекватно и эффективно поддерживать инновационный процесс.
Все Портфель
Медиа центр
-
Группа РМИ завершила участие в ряде проектов
Группа "РМИ" вышла из капитала портфельных компаний:
Marinus Pharmaceuticals, Inc.,
Syndax Pharmaceuticals, Inc.,
Atea Pharmaceuticals, Inc.
-
05 Декабря 2023
imware приобрела направление потребительского тестирования binx health
-
31 Мая 2023
-
20 Апреля 2023